Яков Неверов с. Смоленское
Рассказ
Митинг, посвященный Дню Победы, подходил к концу. Было сказано много хороших и правильных слов. Но эти два 80-летние фронтовика, каждый с приличным «иконостасом», стояли и скептически улыбались. Лица их посерьезнели и на глазах заблестели непрошенные слезы, когда заговорили дети. Звонкие голоса и от души сказанная правда так тронула их, что они не стеснялись ни людей, ни самих себя начали вытирать ладонью глаза и не сговариваясь, тихонько развернулись и пошли от памятника, считая для себя митинг законченным. Им все уступали дорогу, многие глядели на них с пониманием: «Устали старики, пусть идут, пока ноги носят». Но были и такие: «Немогли достоять, сейчас же кончится, и иди, куда надо».
Ветераны шли степенно, слегка покачиваясь, не разговаривая. Каждый думал о своем. На площади села, которая в этот момент была пуста, остановились.
- О чем думаешь, Петр Андреевич? – нарушил тишину один из них. – День Победы, радоваться надо, а ты как в рот воды набрал.
- Радоваться? А я и радуюсь – вот идем, дожили, солнце светит . Разве это не радость?
- Тут ты прав, только это и радость. А вот послушаешь иных, и солнце начинает не так светить. Ты же слышал, как тот в шляпе наши деньги с тобой считал. «Вон сколько деньжищь получают фронтовики». А вот не хватило у него мозгов пересчитать эти тыщи на сталинские рубли. И получится сто двадцать рублей. Вот мы с тобой разжирели. Понятно, у кого минималка, - для тех мы богачи. Но меня бесят не такие бедолаги, а те, что с трибуны: «Мы у вас в долгу, вы у нас самые уважаемые люди». По сему видать, уважили. Ты дайче заметил у магазина, опершись на ограду, стоял Бельских Валентин Степанович. У него орденов, и боевых, и трудовых, - от плеча до пояса. И кто его уважил, подошел, пожал руку и пошутил: «Ты что, фронтовик, до Берлина дополз, а до памятника не можешь дойти?» А если по-доброму, Петр Андреевич, вот же перед вами защитник Отечества, все пионеры должны отдать ему салют, а те, кто в погонах, обязаны мимо его пройти строевым шагом и отдать честь. Вот почет, и не денежный. А то с трибуны одно, а он как стоял, так и побрел домой не солоно хлебавши.
-Ну ты это , Григорий Васильевич, замахнулся шибко широко.
- А что тут широкого? В самый раз – почет должен быть в делах, а не в словах. Словами баню не построишь, так и будешь ходить шелудивым.
За разговором подошли к перекрестку, где их пути должны были разойтись. Остановились, посмотрели друг на друга.
- А что, Петр Андреевич, может отметим День Победы?
- Если честно, я сегодня не собирался. Ты почему в центре не сказал, я бы хоть бутылочку взял.
- А что ее брать? Она у меня давным-давно стоит, и не одна. Пойдем, попробуем, может, не прокисла.
- Не знаю, что с тобой делать? У больно хорошо ты уговариваешь. Пожалуй, я соглашусь.
- Вот и молодец. А то другому нальешь сто грамм, а он тебе: «Ты что, краев не видишь?»
- Ладно «краев», как масть пойдет, а то я тебе напомню эти слова.
Пошли по улице, на которой жил Григорий Васильевич. Шли также по-утиному. Куда торопиться? Решение принято.
Подошли к дому Григория Васильевича. У соседнего дома на лавочке сидел незнакомый мужчина. Петр Андреевич спросил:
- Это кто тут у тебя поселился?
- Да поселился тут один, приехал из Ташкента. Сейчас же нашему брату нигде житья нет. Ничего мужик, нормальный, избу купил. Нас с бабкой на новоселье приглашал. Мы их в гости звали – дело соседское. Он чуток постарше нас с тобой. Медаль «За взятие Берлина» имеет. Но какой-то скрытный, все больше молчит. Жена возле него, просто позавидуешь.
- Не всем быть таким как ты. Пластинки, как радиола, каждые пять минут меняешь.
- Приглашай соседа, что ему одному куковать.
- А ты, как я погляжу, на чужое щедрый, - заулыбался Григорий Васильевич.
- А я тебя за язык не тянул – «не одна стоит». Вдруг какая останется, и будешь думать, как же так. А втроем мы тебя освободим от нагрузки.
Поравнялись с «ташкенцем». Тот сидел в наглаженных брюках, почти новой рубашке, пиджаке и без фуражке. Поздоровались. Григорий Васильевич сел рядом с соседом и чуть наигранно:
- Ты что же, Пантелей Ильич, на парад не пошел? День Победы не каждый день бывает.
- Собрался, а потом думаю, кому я там нужен. Здесь все свои, а я буду как в поле обсевок.
Ну, это ты зря, - Петр Андреевич присел с другой стороны. - Среди фронтовиков чужих не бывает, все ели одну и ту же кашу.
- Каша одна, это верно, но повара разные. Другой так насолит, воды не успеваешь пить.
- Ладно вам, мужики, - Григорий Васильевич приподнялся. – Поваров их тоже надо понять. Только котлы разожгут, он то бомбить, то мины начнет кидать. Тут забудешь, где не солил, где дважды. Пойдем лучше попробуем, как посолила моя Матрена Прокопьевна. Зови свою Настасью Ивановну и ко мне.
- Мать, - повернувшись, крикнул Пантелей Ильич, - нас в гости зовут.
- Иди, иди, - донеслось из веранды, - да недолго там. Если что, я приду за тобой.
Оба фронтовика возмутились: как так? Они пойдут, а одна баба будет сидеть дома. Новый сосед их успокоил:
- Оставьте ее, мужики. Она у меня всем бабкам бабка. Видите, приготовила меня на парад, а я не пошел. Она расстроилась. Теперь нашла какую-нибудь работу, пока не кончит, ее лучше не звать.
- Кто бы мог подумать, - шутливо сказал Григорий Васильевич, - что она тебя держит в ежовых рукавицах – иди, но ненадолго.
- Нет, мужики, она у меня бабка правильная. Оберегает – боится одной оставаться, тогда ей худо будет.
- Одному любому плохо. Не будем ее неволить. – Григорий Васильевич взял каждого под руку и повел к своему дому.
У крыльца сняли туфли. Высоко поднимая ноги, со ступеньки на ступеньку, застланные домоткаными половиками, вошли в дом.
- Мать, - открыв дверь, крикнул хозяин, - я гостей привел.
Из дальней комнаты не вышла, а просто выкатилась кругленькая, чистенькая с доброжелательной улыбкой хозяйка. Всплеснула руками:
- Заходите, гости дорогие, заходите. Раздевайтесь и прямо к столу. У меня все готово. Только в погреб за солониной сбегаю.
Хозяин в большой комнате поставил три стула со спинками. На один повесил свой пиджак, расправив при этом борта, чтобы награды смотрелись лучше. Пригласил:
- Раздевайтесь!
Петр Андреевич сделал то же самое. Пантелей Ильич посмотрел на ордена и медали, блестевшие в лучах солнца. Потоптался возле стульев и отнес свой пиджак на вешалку, сказав при этом:
- А мой и там повисит, ничего с ним не сделается.
Вошедшая хозяйка, увидев стоящих мужиков, заторопилась:
- Вы чего, как столбы? Гриша, в зале накроем или на кухне места всем хватит?
- Ты, Матрена Прокопьевна, собери нам на кухне, - сказал утвердительно Петр Андреевич. – Моя теперь не придет, а пятерым нам там будет поуютней.
Хозяева посмотрели друг на друга – соглашаться или нет? Не найдя веских причин к возражению, хозяйка первой пошла на кухню, мужики за ней.
На кухне не торопясь, но быстро, по привычке ставила на стол все, что нужно и попутно рассаживала мужиков, кому где сесть. Получилось так. Хозяин рядом с Пантелеем Ильичем, Петр Андреевич – напротив.
Кроме всяких закусок хозяйка налила каждому по полной тарелке жирного, наваристого супа, пояснив при этом:
- Не знаю, как вы, а мой после стопки любит погорячей.
- А нам, - пошутил Петр Андреевич, - хоть что, лишь бы чужое.
- Так, - поднял стопку хозяин, - хоть она и с слезами на глазах, но Победа. Поэтому прошу по полной.
И показал пример. Гости его поддержали.
- А я потом, - сказала Матрена Прокопьевна. – Настя придет, и мы с ней вместе. А пока пойду посижу там, - показала головой в другую комнату.
Теплота дома, водка, годы сделали свое дело – фронтовики захмелели сразу. Потом сидели в полной тишине, не спеша пережевывая все, что приготовила хозяйка. На стук нечаянно звякнувшей вилки или ложки обращали внимание и беспричинно улыбались.
Утолив первый голод, Петр Андреевич под действием хмеля и нахлынувших воспоминаний открыл душу, слегка ударив при этом по кромке стола пальцем:
- Все ничего, мужики. Но как вспомню эту команду «по паникерам и трусам огонь», замрет у меня душа и не знаешь, как себе ответить- так плохо, а если по-другому, было ли бы лучше?
При этих словах Пантелей Ильич протрезвел и с угрозой в голосе спросил:
- В каком месте и когда ты выполнял эту команду?
Петр Андреевич, не уловив угрозы в словах собеседника, с горечью продолжил:
- Было это весной сорок третьего года на севере Курской области. По замыслу начальства нужно было взять одну высотку. Пригнали для этого два взвода штрафников. А наш заградотряд расположили позади, на пригорке.
- А высота эта называлась не Егорушкина Горушка?- также с угрозой продолжил Пантелей Ильич.
- А ты откуда знаешь?
-А вот откуда!
Пантелей Ильич резко вскочил, отчего стол закачался и часть супа и закуски пролилась на стол, и хотел ударить в лицо бойцу заградотряда. Петр Андреевич, сказалась фронтовая закваска, на лету схватил нацеленный ему в лицо кулак и так его крутанул, что обидчик оказался на полу и на рубашку ему и на голову полилась пролитая снедь. Григорий Васильевич успел только крикнуть:
- Мужики, вы что, сдурели? Прекратить!
Вбежавшая на шум хозяйка заохала:
- Ой-ой, черти старые, хоть бы выпили, а то по стопке рассолу пропустили и драку учинили. Как маленькие.
В это время вошла жена разбушевавшегося фронтовика, подскочила к нему, подхватила под мышки, усадила на стул, прижала его голову к своей груди и громко зашептала:
- Пантюша, родненький, успокойся, - Достала из кармана своей жилетки носовой платок и начала ему вытирать голову, рубашку, приговаривая, - ничего, ничего, ничего. Сейчас все будет хорошо, успокойся.
Матрена Прокопьевна схватила чистое полотенце и к ней:
- Чего ты там платком, Настя, возьми вот полотенце чистое.
- Нет, нет, мы своим, - все также она не отпускала его седую голову от своей груди. – Это ничего, это пройдет. Ну, выпили маленько, ну и что.- Посмотрела на стоявших в замешательстве людей- Вы на него не обижайтесь. Он у меня хороший. Он сейчас успокоится. Это у него после плена.
Пантелей Ильич от ласковых слов и рук жены притих, успокоился и легонько начал гладить ее руки своими, вкладывая в это только ей и ему понятное:
- Все, все, моя Настенька, можешь отпускать. Больше этого не повторится.
- Вот и хорошо, - ответила она, чтоб все слышали, - ты немного посиди, а я сбегаю принесу чистую рубашку и вы продолжите беседу. Он у меня хороший, - посмотрела она на мужиков и как могла быстро убежала.
- Вот давно говорят, - Григорий Васильевич начал помогать жене наводить порядок на столе, - что власть женщины над мужчиной в ее ласке и слезах. Этим она всю жизнь правила мужским полом. А теперь некоторые из них решили командовать непосредственно. Послушаешь такую и невольно подумаешь: «Неужели с тобой кто-то спит? Ты же не баба – монстр!»
- Гриша, - перебила его жена, - на черта они тебе нужны? Слово-то какое выкусил. Усаживай лучше мужиков.
- Чего их ухаживать, они и так каждый на своем месте, - Григорий Васильевич ласково погладил плечи Пантелея Ильича. Подошел к Петру Андреевичу, взъерошил ему волосы, поправил, - ничего, мужики, в нашей жизни всякое бывает. Главное – найти правильный выход.
Вошла Анастасия Ивановна, неся на руках нужные вещи. Подошла к мужу, и не спрашивая его, как это делают с малыми детьми, сняла рубашку, майку, которая была чистая, но в ней гнев, потому и ее заменила. На левой руке буяна фронтовики сразу заметили пулевое ранение и, возможно, подумали: «Чуть в сторону и руки могло не быть, а чуть в другую – и косточки давным-давно где-нибудь сопрели.
- Ладно, мужики, - Григорий Васильевич налил по второй, - хоть и прошел у нас бой местного значения, давайте по второй. В той катавасии, в какой мы побывали, кто прав- кто виноват понять трудно. Все обиды, горести и трудности оправдываются одним – Победой. Вот сейчас начнут некоторые пиголки издеваться над приказом 227 и не договаривают или специально умалчивают. Для незнающих людей дело тогда решалось так: или-или. Тогда действительно дело решалось так: или стоять насмерть, или вприпрыжку до Урала или еще куда. Умалчивают об этом потому, потери считают наши и немецкие. По их подсчетам выходит – наши командиры не того. А где потери? На Восточном фронте румын, итальянцев, испанцев, вся же Европа на нас перла , а их потери где? А что касается заградотрядов, как наши войска в Германию вошли, их ставить не стали. Зато немцы своих поставили. Об этом – ни гу-гу.
- Гриша, остановила его жена. – Ты чего завелся? Они поди и без тебя все это знают. Вам было тяжело, а нам легче? План был по полторы овчины с одной овцы, а где их взять?
- Правильно, мать. Шкуру с овцы и полшкуры с еще не родившегося ягненка – жестоко. Всем было невпротимочь. Но я тебе на это отвечу так, как рассказывал мне Фефелов Иван из Абакана. Он говорил: « Нас собрали в Красноярске в начале октября. Полмесяца гоняли. Потом, как были в пилотках и гимнастерках, - по вагонам и на Запад. Едим голые: ни ружья, ни палки. Говорим между собой: «Куда нас везут голых в зиму?». Подъехали к станции Тайга, пока паровозы менялись, три вагона – в шубы, шапки, рукавицы, валенки и каждому по автомату. И таким фортом в Новосибирске, Омске и последних одели около Москвы. Пятого ноября вылезли из вагонов и сразу на позицию. А мороз! Мы в шубах, а немец в туфлях. Вот тебе, бабка, и полторы шкуры. А сейчас, не дай Бог, какая заваруха, в чего солдат одеть? Тогда в деревне в каждом дворе пять, десять овец, а сейчас на всю деревню если десять. Вот тебе и полторы шкуры.
- Гриша, да хватит тебе, все одно и тоже, одно и тоже.
- Да нет, Матрена Прокопьевна, он правильно говорит, - вступил в разговор Пантелей Ильич. – Только мы в нашей канетели да заботах не думаем об этом. Я сейчас вспылил, а его послушал и думаю, зря я так. Но ведь и меня надо понять.
Он, не пригласив никого, выпил свою стопку, посмотрел на жену. Закусил, достал платок, вытер губы, руки и снова взгляд на жену. Получил молчаливый ответ: «Да ладно тебе. Все хорошо. Мы же с тобой вместе.»
Компания последовала его примеру. Дождавшись, когда все немного пожевали, он продолжил;
- Кто из нас прав, кто виноват – теперь концов не найдешь. Вот возьми меня. Мы с Настей поженились в сороковым. Я как раз кончил курсы трактористов и начал выращивать хлопок. Вот вой1на. Мне как трактористу – бронь. Потом тут баб поучили, ребятишек, а меня – в эшелон. До Москвы немного не доехали, меня часовым по вагону. Часовой – он кто такой? Топить печь и смотреть, чтобы ночью из вагона никто не выходил, в случае чего – будить командира. Я топил, топил и уснул … Утром хватились, одного нет. Кто часовой? Где был? Спал. Раз, два, три – трибунал и за сон на посту 15 суток штрафбата. Мы и нарисовались под этой Егорушкино й Горушкой. Командир наш – не командир – гражданин начальник говорит: « Наша задача взять эту горушку. Предупреждаю, только вперед. Не дай Бог кто побежит назад, дальше этого пригорка не убежите, там пулеметы, они вдарят тоже по нам. Наше спасение только на той горе. Правда, артиллерия лупила по той горе, мы думали, что живых никого не осталось. Команда вперед, а впереди нас рожь. Пока мы путались в этой ржи, немцы очухались, и так по нам вдарили, мы и заметались, кто куда. Смотрю – слева, справа побежали назад. Большинство же из нас необстреленные. Командир мечется: «Стой, стой». Все назад и я тоже. Как о нам с пригорка саданули еще хуже, чем спереди. Мы и заметались. Командир: «Вперед». Кого пинком, кому пистолет в зубы – вперед там наше спасение. Пока пятились, я чувствую, мне руку обожгло. Сзади пулеметы, командир с пистолетом: «Вперед, ура», я про руку забыл. На гору забежали, а я руку поднять не могу, лопатку в правую руку взял, ох, как же я их лупил.
Заняли горку, окопались. Командир подходит ко мне: «Что у тебя с рукой?» Говорю, не знаю. Он дал команду меня перевязать: «У тебя такое ранение, нужно бы в тыл, но ты ведь пойдешь на своих ногах, тебя те, что на пригорке, как куропатку подстрелят. Откуда они знают, ты ранен или так идешь. Будь здесь. Бой кончится, разберемся». Сидим, ждем, когда немец пойдет в атаку. Дождались темноты. И тут как наши самолеты налетели и давай по нам утюжить. Кто-то кому-то не сказал, что на горе свои.
Помню, бомбы визжали и трах – очнулся часов в десять утра. Ноги немного засыпаны, а в голове как черти табак толкли – гудит, спасу нет. Думаю, куда все подевались? Голос: «Ты живой?». Подходит ко мне здоровый мужик. Я его во втором взводе видел. Я так головой немного покачал – гудит все. Он мне: «Вставай, пойдем». Я встать не могу. Он подошел ко мне, нагнулся: «Да ты однако полные штаны наложил?». Я хвать рукой, как есть – до самых обмоток. Как же я тут заплакал, как ребенок, со всхлипом. Думаю, лучше бы меня убило, чем так. Как я теперь своей Насте скажу, что не знаю, как это получилось. Поверит ли она, что не со страху, а как-то само собой, вне зависимости от мозгов. Ведь я же тех рубил лопаткой, а как это получилось, не знаю.
Он мне: «Хватит сопли мотать. Вон сколько убитых, и своих и немцев. Снимай с любого, уходить надо.» Я ему – не могу с убитого на себя.
- Хлюпик, спустись под горку. Там ручей. Замойся и побыстрее – уходить надо. Я под горку. Наверное, с ведро выпил, вымылся, все перестирал, мокрое на себя надел и мы пошли. Идем, я спрашиваю:
- Куда идем?
- К своим.
- Если к своим, вроде, туда надо.
- Там минное поле. Вот лесок обойдем и повернем.
Лужок прошли, хоп – за лесом деревенька. Он мне:
- Ты тут посиди, я туда – узнаю, что и как. Потом решим, что делать.
Он ушел, я сел под березу и уснул. Будит:
- В селе немцы, но нам придется к ним, больше некуда – хоть живые будем.
- Зачем в плен? Пойдем к своим.
- Каким своим? Придешь, тут же расстрел: где был?
- Почему под расстрел? Поди разберутся. Встал, хотел шагать обратно. Чем он меня по шее ломанул, не знаю. Очухался, он тащит меня на горбу. Руки, ноги связаны моими обмотками. Глаз так скосил: немцы, домишки, собаки. Он подошел к ним. Меня, гадюка, как мешок с картошкой бряк на землю, аж челюсти звякнули. Слышу, он по ихнему лопочет. Вот, думаю, тварь. Он меня развязал, на землю поставил и говорит:
- Не будь дураком, скажи, что ты идти не смог и попросил, чтобы я тебя донес.
- Донес, связанного?
- Скажу, ты память потерял и начал буянить. Ври, как я тебе велю, иначе вон под тополь и дух из тебя вон.
Я молчу, а сам головой так, вроде, соглашаюсь. Кому охота помирать за просто так. Подходит немец, пинком под зад и «шнель-шнель». Автомат в спину. Иду. Подводят к большому амбару. Дверь открыли, пинок под зад, и я лежу на полу. Огляделся, там наших человек 20, знакомых – никого. Все молчат и я тоже не в купе: кто? куда? зачем?
- А фронт-то куда девался, - спросил Григорий Васильевич.
- Куда, - буркнул Петр Андреевич. – Как только их утюжить начали, слышу, наш командир кому-то звонит и с матом :» Ты у меня под трибунал пойдешь. Я тебя посажу на эту горку и твои по тебе будут поливать». Смотрим, два отбомбились, а третий отвалил в сторону. А немец тут утром не пошел, а справа и слева, и мы двадцать километров, еле ноги унесли.
- Значит, ты не только нас подгонял, но и сам со смертью на перегонки, - ухмыльнулся Пантелей Ильич.
- Да что об этом говорить, - Петр Андреевич взял вилку и начал чертить какие-то круги по клеенке.
- Кт там не бывал, тот не знает, а кто побывал – всего повидал. Меня в том бою тоже ранило, но легко, в ногу. Кость цела осталась. Лежал в госпитале города Вологда. Отлежал четыре месяца, выписывают на фронт. Лейтенант спрашивает: «Тебя в какую часть?» Думаю, только не туда, где был, не могу в своих стрелять. Говорю, направь меня в разведку. Он на меня так посмотрел: «Будь по-твоему. Но годишься ли ты туда – решат на месте. Приняли, всю войну воевал в разведке. Восемь раз забрасывали в тыл. И так сколько раз ходил, а Бог миловал – больше ни разу не царапнуло.
- У меня тоже кроме руки ничего не задело, а вот душу всю исковыряли в дыры, - Пантелей Ильич сжал свою голову обеими руками у висков т потряс ею.- Из амбара я попал на лесозаготовки в Брянскую область. Куда-то немцам потребовался лес не тоньше двадцати и не толше тридцати сантиметров. Охрана – у царя такой не бывает. Через тридцать метров – автоматчик с собакой. Убежать – даже не мысли. Урабатывались там до невозможности. А этот благодетель, что меня в плен сдал, у них переводчиком и меня дополнительно то туда, то сюда. Мой напарник – Коля Черданцев, земляк из Солонешного, спрашивает: «Он почему тебя пасет?». Я ему рассказал как было. Он мне: «Ну, паря, долго живешь. Этот хрущь хоть где из воды живым и сухим выйдет. А ты свидетель. Это для него гибель. Так что готовься, он тебя так или иначе, а туда», - показал на землю. Осенью холодно стало. Нас стали заставлять жечь костры для солдат. Брали сушняк, чтобы дыму было меньше. Я был личным костерожегом у этого гуся. Однажды Коля говорит: «Ты ему костер разложи вон там, и побольше» Я не пойму, в чем дело, но сделал так, как земляк велел. Пилим. Николай мне: «За мной». Я пилу подхватил и за ним. Стоит лесина аккурат на тридцать. Коля мне: «Быстрее-быстрее». А как быстрее – у меня руки еле шевелятся. Думаю, зачем ему? Глядь, а мой благодетель задремал у костра. Лесину спилили, она хрясь и вершиной ему по башке – его копнуло. Цы налетели и давай нас дубинами охаживать. Я молчу, а Коля на руках показывает, ветер не туда дунул. Уработали они нас и послали за лопатами. Мы его тут же закопали и землю притоптали. А второй день немцы как забегали и на станцию. Лес-то мы по узкоколейке отправляли. Сели, только мы их и видели.
МЫ постояли, порядили и пошли по шпалам. Немного отошли, кукушка летит обратно. Мы в лес. Смотрим, партизаны. Нас помыли, откормили и по отрядам. Мы с Колей попросились вместе. Так и партизанили до января сорок пятого. По Белоруссии колесили, уже в Польше соединились с нашей Армией. Мы с ним опять вместе.
Убило его второго мая прямо в Берлине. Похоронил я его и второй раз за всю войну плакал как ребенок. Так его мне было жалко. Семь дней не дожил.
Пришел я с фронта, все своей Насте рассказал, ничего не утаил. Думаю, поверит – не поверит? Поверила. И вот теперь всю жизнь как со мной что случится, она меня обнимает. Я слышу, как ее сердце бьется и от ее теплых рук идет правда. Как бы я жил без нее?!
Фронтовики слушали исповедь Пантелея Ильича, изредка покачивая головой, и поглядывая друг на друга. Петр Андреевич так и не положил вилку и чертил замысловатые круги на клеенке. Бабы, переглядываясь между собой, смотрели на мужиков, вытирали нет-нет навернувшиеся слезы.
Григорий Васильевич посмотрел на жену, чтобы она остановила этого чертежника, а то еще клеенку порвет. Матрена Прокопьевна поняла мужа:
- Мужики, хватит вам. Выпейте еще и закусите, а то все стынет.
- Нет, пожалуй, - Пантелей Ильич посмотрел на жену. – Ее христовую всю не перепьешь.
- Да хватит тебе, - хозяйка погладила Настю по спине, уж в такой-то день не строжься. Когда еще они соберутся, если соберутся. Этим по восемьдесят, в твоему, наверное, еще пяток прибавить надо.
- Не пять, а скоро три будет. – Она ласково посмотрела на мужа. – Он ушел в Армию, а я с сыном осталась. Ушел и как пропал: ни письма, ни открытки. Только в марте сорок пятого письмо. Как я орала. Думаю, хоть каким придет мой Пантюша, на руках носить буду, но чтоб у сына был отец. А он вернулся, мой соколик, и целехонек.
Мужики посмотрели на своих жен, уткнувшихся к этому времени в плечо друг друга и вытирали непрошенные слезы, выпили по полной.
- Будь проклята она, эта война, - после закуски заговорил Григорий Васильевич. - Сколько жизней она забрала и наделала калек, а сколько невидимых ран у каждого из нас и все только для того, для одной цели - не лезьте на нашу землю. Недаром говорят, земля-матушка. Вот есть твоя мать-земля, ее и береги. А чужой пусть не тянет к ней свои паршивые лапы.
- Во, - Петр Андреевич уважительно посмотрел на бывшего командира батальона, - ты как перед боем.
- А в этом деле, друзья, мы должны быть всегда на посту. И нет тому прощения, кто помыкает своей Родиной и нет тому забвения, кто стоял до конца. Возьми нашего Пантюху. Всю войну полз на коленях и всю войну думал: «Приду, все расскажу своей Насте, всю правду. Если поймет – простит, простит – нет мне более дорогой награды за мои муки. Даже мы с тобой, Петя, должны молиться вот на таких Пантюх.
Посидели, помолчали и, не сговариваясь, зашевелились на расхожую. Пантелей подошел к Петру:
- Ты за это давешнее не взыщи.
-
- Да брось ты… Чего теперь об этом. Каждому досталось свое, и никто не выбирал дорогу, носил галифе, какие достались. Ты вот лучше скажи, как мне до дома добраться? Хорошо, у тебя есть опора, а мне самому, самостоятельно.
Разговаривая, вышли за калитку. Григорий Васильевич, слышавший окончание разговора своих товарищей, хохотнул:
- А ты боишься, что с тобой случится как с Паршиным Иваном Никитовичем. Он утром приходит на работу в мастерскую, а у него глаз и щека ободраны. У него спрашивают, тебя кто? «Вчера выпил два четка, в свою улицу вышел, они и начали драться. Их двое, а я один. Я этого держу, тот меня в забор. Другого схвачу, этот меня в плетень. Не мог я один с двумя справиться». А ты выпил три стопки, у тебя должно быть равновесие.
- А вообще помирать нам рановато, -запел он с хрипотцой и закончил словами, - поживем пока, землю потопчем, посмотрим, что дальше будет. Только я лично ничего хорошего не вижу.
Закурили, каждый ухмыльнулся своим и пьяным, и трезвым мыслям. Не прощаясь, разошлись по домам.
|
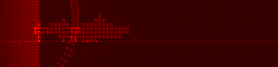

 Приветствую Вас Гость | RSS
Приветствую Вас Гость | RSS